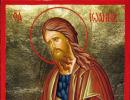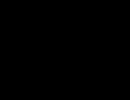Анализ мотивации достижения в процессе профессионально-психологического отбора кадров. Из ссылки в чекисты
Яков Саулович Агранов (наст. имя – Янкель Шмаевич Соренсон), (1893-1938), родился в г.Чечерск, Могилевской губернии в семье лавочника. Получил среднее образование, работал конторщиком в Гомеле. В 1912г. вступил в партию эсеров, а в 1914г., с началом Первой мировой войны, уклонился от мобилизации в армию и перешел на нелегальное положение, распространял листовки с призывами к поражению своей страны, за что в 1915г. был арестован и сослан в Енисейскую губернию. В ссылке пробыл до самой революции. В автобиографиях утверждал, что вступил в партию большевиков в 1915г., но на самом деле он сделал это уже после свержения монархии .
В 1917г. стал секретарем Полесского обкома партии большевиков, был одним из основных руководителей захвата власти большевиками в Гомеле. Руководил арестами «контрреволюционеров» в Гомеле и за «успехи» был назначен секретарем Совнаркома РСФСР. Визировал доставляемые Ленину из ВЧК «проскрипционные списки» – перечни лиц, подлежащих аресту и уничтожению за принадлежность к «буржуазным классам». Поскольку Ленин в силу занятости не мог уделять этому внимания, как правило, за него ставил свою подпись Яков Саулович. Через руки Агранова шли также апелляции на действия ВЧК, подававшиеся на имя Ленина. Поэтому роль Агранова в развертывании массовых репрессий была значительна. Оценив его «заслуги», в 1919г. Ленин направил его на службу в ВЧК: особоуполномоченным Особого отдела, занимавшегося «надзором» за партийными кадрами и выявлением среди членов партруководства «скрытых контрреволюционеров». Затем стал особоуполномоченным Секретно-оперативного отдела: занимался «предотвращением контрреволюционных выступлений». В этой должности Агранов выполнял наиболее деликатные поручения Ленина: расследование обстоятельств Кронштадтского восстания, восстания Антонова в Тамбовской губернии, дела «Петроградской боевой организации В.Н.Таганцева и других . Эти дела старался раздуть: многие расстрелянные по ним люди были вообще к ним непричастны, а «организация Таганцева», по «делу» которой был казнен поэт Н.С.Гумилев, была вообще вымышлена Аграновым ради уничтожения активной части столичной интеллигенции. Так, он санкционировал казнь профессоров и известных ученых Лазаревского, Волкова, Тихвинского, Н.А.Огородникова, К.К. Черносвитова, общественных деятелей и ученых братьев Астровых, Н.Н.Щепкина, профессора и ученого с мировой известностью В.Н.Таганцева приказал пытать.
Агранов составлял списки лиц, подлежащих высылке из РСФСР, куда включил Н.Бердяева, М.Осоргина, Н.Лосского и других известных деятелей отечественной культуры и науки. За «успех» этой «операции» его сделали в 1922г. начальником Особого бюро ОГПУ по административной высылке «антисоветских элементов». Все высланные в 1922-1923гг. – на его совести .
В 1923г. Я.С.Агранов стал замначальника, а в 1929г. – начальником Секретного отдела ОГПУ СССР, и «курировал» творческую интеллигенцию. Есть основания считать Агранова причастным к гибели поэтов С.Есенина, В.Маяковского. Он санкционировал уничтожение писателя Б.Пильняка. Работа творческих союзов – «РАПП», «ЛЕФ», «Российский союз писателей», находилась под его контролем – Агранов фактически был одним из создателей советской цензуры, и решал, кого из писателей считать советским, а кого – нет. Многим такие «рецензии» Агранова стоили жизни. Казни санкционировались Аграновым с такими «формулировками», как «враг рабочих и крестьян», «убежденный сторонник демократического строя». За такие «успехи» в 1927г. был награжден орденом Красного Знамени. В 1928г. курировал «следствие» по фальсифицированному «делу» «Промпартии», добивался смертной казни всех его фигурантов . За фальсификацию этого «дела» был «удостоен» очередного ордена Красного Знамени и знака Почетный чекист за номером 5.
В 1931-1933гг. полномочный представитель ОГПУ по Московской области. С 1934г. – первый замнаркома НКВД Г.Г.Ягоды: координировал деятельность оперативных отделов ГУГБ НКВД СССР. В декабре 1934г. вел следствие по факту убийства Кирова, «выявив» причастность к нему политических противников Сталина – Зиновьева и Каменева, других лиц. За это был произведен в ранг Комиссара госбезопасности 1го ранга.
Сталин поручил Агранову «оформление» всех следственных материалов по «Московским процессам» 1936-1937гг., в том числе «Параллельного троцкистского антисоветского центра», за что был приближен сменившим Ягоду Н.И.Ежовым, который назначил его начальником ГУГБ с сохранением поста первого замнаркома НКВД.
Однако вскоре карьера Якова Агранова оборвалась: Сталин счел неудобным наличие в живых человека, знающего подоплеку «Московских процессов», к тому же Ежов решил заменить перешедшего к нему «по наследству» от Ягоды Агранова «своим» человеком – М.П.Фриновским. Как раз тогда возникло дело о заговоре М.Н.Тухачевского, и вести следствие по нему, по мнению Сталина и Ежова, мог только надежный человек – таким тогда считали Фриновского. В мае 1937г. Агранов был переведен с понижением – начальником УНКВД по Саратовской области, а 20 июля 1937г. его арестовали.
Агранов Яков Саулович (настоящее имя Янкель-Шевель Шмаев, часто
повторяющиеся утверждения, что настоящая фамилия - Сорензон ни на
чем не основаны).
Родился 12 октября 1893 года - был расстрелян 1 августа 1938 года).
Комиссар госбезопасности 1-го ранга (1935). Член партии с 1915 г.
Родился в м. Чечерск Рогачевского уезда Могилевской губ. в семье
владельца бакалейной лавки. В 1911 г. окончил 4-х классное городское
училище.
Работал бухгалтером, конторщиком склада лесной конторы.
В 1912 г. вступил в партию эсеров, в 1914-1915 гг. член Гомельского
комитета ПСР. Был арестован и выслан в Енисейскую губернию.
В ссылке познакомился с некоторыми лидерами большевиков, в т. ч. с
И.В.Сталиным и Л.Б.Каменевым.
После Февральской революции Агранов - секретарь Полесского областного
комитета РСДРП(б), после Октябрьской революции, в 1918 г. - секретарь
Малого Совнаркома, в 1919 г. - сотрудник секретариата Совнаркома РСФСР.
С мая 1919 г. по совместительству особоуполномоченный ВЧК (эту должность,
кроме него, в то время занимали лишь В.Р. Менжинский, К.И. Ландер,
А.Х.Артузов и В.Д. Фельдман).
В 1920-1921 гг. заместитель начальника Управления 00 ВЧК (выезжал во главе
опергрупп на Западный фронт и в Кронштадт), с января 1921 г. - начальник
16-го спецотделения ВЧК (контрразведка в армии), с апреля 1921 г. -
особо уполномоченный по важнейшим делам при начальнике СОУ ВЧК-ГПУ,
начальник Особого бюро по делам административной высылки антисоветских
элементов и интеллигенции при СОУ ГПУ. В 1923-1929 гг. - зам. начальника,
с октября 1929 г. -начальник Секретного (с марта 1931 г. Секретно-политического)
отдела ОГПУ. С мая 1930 г. - помощник начальника Секретно-оперативного
управления (СОУ) ОГПУ. Был близко знаком с известными писателями и деятелями
искусства, в т. ч. с В.В. Маяковским.
После конфликта в руководстве ОГПУ (между С.А. Мессингом, Е.Г. Евдокимовым,
И.А.Воронцовым, Я.К.Ольским и Л.Н.Вельским, и ГГ.Ягодой, поддержанного
В.Р.Менжинским) Агранов 31 июля 1931 г. вошел в состав Коллегии ОГПУ,
с сентября был назначен полномочным представителем ОГПУ по Московской области
(согласно письму Кагановича Сталину, Менжинский, вместе с Акуловым и
Балицким, возражал против назначения Агранова на этот пост, считая его
незаменимым в СПО). Менжинский предлагал кандидатуру В.Н. Манцева,
которую Каганович, считавший, по его словам, «Мессингом № 2», отверг, Агранова
- считал «самой подходящей». В 1931-1932 гг. по совместительству - начальник
особого отдела Московского ВО.
С февраля 1933 г. - зам.председателя ОГПУ. В 1934-1937 гг. - 1-й зам. наркома
внутренних дел СССР, одновременно с декабря 1936 г. начальник ГУГБ НКВД.
Член ЦРК ВКП(б) (17 съезд). Член ЦИК СССР (7 созыв).
В декабре 1934 г. после убийства СМ. Кирова и смещения начальника
УНКВД Ленинградской обл. Ф.Д. Медведя в течение 4 дней исполнял
обязанности начальника УНКВД ЛО.
С апреля 1937 г. Агранов - зам. наркома и начальник 4-го отдела (СПО)
ГУГБ НКВД. С мая 1937 г. -начальник Саратовского управления НКВД.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1927, 1932), 2 знаками
«Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Из Саратова Агранов написал Сталину письмо, в котором предлагал
арестовать Крупскую и Маленкова, в то время зав. отделом руководящих
парторганов ЦК. Маленков (вместе с членом Политбюро А.А. Андреевым) из
Саратова, куда летом 1937 его послал Сталин для чистки местного
руководства, предложил арестовать Агранова.
20 июля 1937 г. был арестован; расстрелян по приговору Военной коллегии
Верховного суда (ВКВС) СССР.
Верховный суд России отменил реабилитацию бывшего сотрудника НКВД, одного из организаторов сталинских репрессий Якова Агранова. Он был причастен к расстрелу поэта Николая Гумилёва. Современники называли его «палачом русской интеллигенции».
Восстановить в правах твердого чекиста, как позже называл Агранова Никита Хрущев, пытались несколько раз. Самый первый – сразу после смерти Сталина и начала кампании по реабилитации жертв террора. Главная военная прокуратура тогда признавала, что хотя Яков Агранов и был необоснованно осужден по обвинению в антисоветской деятельности, тем не менее во время работы в НКВД он регулярно нарушал социалистическую законность. Повторная попытка в 2001 также не увенчалась успехом. И только в начале этого года прокуратура реабилитировала человека, которого некоторые современники называли «палачом русской интеллигенции». Это в свою очередь возмутило правозащитников. Они напомнили, что Агранов стоит практически за каждым крупным политическим процессом с 1919 по 1937 годы, в том числе судом над Зиновьевым и Каменевым. Специалисты подчеркивают, что он был одним из лучших фальсификаторов ведомства. Что, правда, его самого не спасло ни от ареста, ни от расстрела в 1938 году.
Материалы по теме
Супруга Агранова, которую расстреляли в 1938 году, была реабилитирована полностью более полувека назад.

Яков Саулович Агранов (12 октября 1893, местечко Чечерск Рогачевского уезда Гомельской (Могилевской) губернии, Российская Империя - 1 августа 1938, Москва) - один из руководителей органов государственной безопасности советской России и СССР.
Агранов Яков Саулович (настоящее имя Янкель-Шевель Шмаев, часто повторяющиеся утверждения, что настоящая фамилия - Сорензон ни на чем не основаны 1) (12.10.1893-1.8.1938). Комиссар госбезопасности 1-го ранга (1935). Член партии с 1915 г. Родился в м. Чечерск Рогачевского уезда Могилевской губ. в семье владельца бакалейной лавки. В 1911 г. окончил 4-х классное городское училище. Работал бухгалтером, конторщиком склада лесной конторы. В 1912 г. вступил в партию эсеров, в 1914-1915 гг. член Гомельского комитета ПСР. Был арестован и выслан в Енисейскую губернию. В ссылке познакомился с некоторыми лидерами большевиков, в т. ч. с И.В. Сталиным и Л.Б. Каменевым.
Псевдоним он выбрал себе по всей видимости в память об активисте «Бунда» Янкеле-Мойше Агранове, погибшем 14 мая 1905 года в возрасте 17 лет, когда он в составе гомельского отряда еврейской самообороны участвовал в революционных беспорядках, организованных местным ферейном «Бунда» и комитетом РСДРП.
Родился в небедной семье владельца бакалейной лавки (позднее утверждал, что был сыном рабочего - то ли строительного, то ли кузнеца - то есть имел «пролетарское происхождение»), был первенцем в семье, кроме него у Шмая и Ципы потом родилось ещё два сына - Абрам и Мордехай - и дочь Соня. В 1911 году окончил 4-х классное городское училище в Рогачеве (по другим данным - в Чечерске). Работал бухгалтером, конторщиком на складе лесной конторы Исаака Левина в Гомеле. В 1912 году вступил в партию эсеров и быстро сделал партийную карьеру, в 1914-1915 годах избирался членом Гомельского губкома партии социалистов-революционеров.
В 1914 году освобожден от военной службы по состоянию здоровья (страдал эпилепсией). За подрывную работу в тылах действующей армии 25 апреля 1915 года был арестован и по суду в мае 1915 года выслан в Енисейскую губернию. В ссылке познакомился с некоторыми лидерами большевиков, в т.ч. с И.В. Сталиным и Л.Б. Каменевым. Там же в 1915 году вступил в РСДРП(б). Интересно, что в Чечерске ходили слухи, что перед тем как сгинуть в Сибири, молодолй Агранов прихватил кассу лесной конторы Левина - что-то около 3000 рублей.
После Февральской революции Агранов - секретарь Полесского областного комитета РСДРП(б), после Октябрьской революции, в 1918 г. - секретарь Малого Совнаркома, в 1919 г. - сотрудник секретариата Совнаркома РСФСР.
С мая 1919 г. по совместительству особоуполномоченный ВЧК (эту должность, кроме него, в то время занимали лишь В.Р. Менжинский, К.И. Ландер, А.Х. Артузов и В.Д. Фельдман). В 1920-1921 гг. заместитель начальника Управления 00 ВЧК (выезжал во главе опергрупп на Западный фронт и в Кронштадт), с января 1921 г. - начальник 16-го спецотделения ВЧК (контрразведка в армии), с апреля 1921 г. - особоуполномоченный по важнейшим делам при начальнике СОУ ВЧК-ГПУ, начальник Особого бюро по делам административной высылки антисоветских элементов и интеллигенции при СОУ ГПУ. В 1923-1929 гг. - зам. начальника, с октября 1929 г. -начальник Секретного (с марта 1931 г. Секретно-политического) отдела ОГПУ. С мая 1930 г. - помощник начальника Секретно-оперативного управления (СОУ) ОГПУ. Был близко знаком с известными писателями и деятелями искусства, в т. ч. с В.В. Маяковским.
После конфликта в руководстве ОГПУ (между С.А. Мессингом, Е.Г. Евдокимовым, И.А. Воронцовым, Я.К. Ольским и Л.Н. Вельским, и ГГ. Ягодой, поддержанного В.Р. Менжинским) Агранов 31 июля 1931 г. вошел в состав Коллегии ОГПУ, с сентября был назначен полномочным представителем ОГПУ по Московской области (согласно письму Кагановича Сталину, Менжинский, вместе с Акуловым и Балицким, возражал против назначения Агранова на этот пост, считая его незаменимым в СПО). Менжинский предлагал кандидатуру В.Н. Манцева, которую Каганович, считавший, по его словам, «Мессингом № 2», отверг, Агранова - считал «самой подходящей». В 1931-1932 гг. по совместительству - начальник особого отдела Московского ВО.
С февраля 1933 г. - зам.председателя ОГПУ. В 1934-1937 гг. - 1-й зам. наркома внутренних дел СССР, одновременно с декабря 1936 г. начальник ГУГБ НКВД. Член ЦРК ВКП(б) (17 съезд). Член ЦИК СССР (7 созыв). В декабре 1934 г. после убийства СМ. Кирова и смещения начальника УНКВД Ленинградской обл. Ф.Д. Медведя в течение 4 дней исполнял обязанности начальника УНКВД ЛО. С апреля 1937 г Агранов - зам. наркома и начальник 4-го отдела (СПО) ГУГБ НКВД. С мая 1937 г. -начальник Саратовского управления НКВД.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1927, 1932), 2 знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
Из Саратова Агранов написал Сталину письмо, в котором предлагал арестовать Крупскую и Маленкова, в то время зав. отделом руководящих парторганов ЦК. Маленков (вместе с членом Политбюро А.А. Андреевым) из Саратова, куда летом 1937 его послал Сталин для чистки местного руководства, предложил арестовать Агранова.
20 июля 1937 г. был арестован; расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда (ВКВС) СССР.
Служба в ВЧК-ГПУ-НКВД
С мая 1919 года по совместительству Агранов назначается (возможно по рекомендации Сталина) особоуполномоченным ВЧК, аналогичную должность (а по сути - звание, поскольку должностные обязанности не были определны), кроме него, в то время имели лишь В.Р. Менжинский, К.И. Ландер, А.Х. Артузов и В.Д. Фельдман.
В 1920-1921 годах был заместителем начальника Управления особых отделов ВЧК, выезжал во главе опергрупп на Западный фронт и в Кронштадт. С 1 января 1921 года - начальник 16-го спецотделения ВЧК (линия работы - контрразведка в армии), с 28 апреля 1921 года - особоуполномоченный по важнейшим делам при начальнике СОУ ВЧК-ГПУ, с 2 января (по другим данным - 2 ноября) 1922 года до 1 февраля 1923 года - начальник Особого бюро по делам административной высылки антисоветских элементов и интеллигенции при СОУ ГПУ.
В.И. Лениным и Ф.Э. Дзержинским Агранову было поручено составление списков представителей старой интеллигенции, которые подлежали высылке из РСФСР в 1922 году (среди них Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, М.А. Осоргин и т.д.) - его называли, и, вероятно, не без оснований, «продавцом билетов на «философский» пароход».
Агранов лично курировал работу следствия по делу Тактического центра, по делу т.н. «боевой организации» Таганцева (нес непосредственную ответственность за расстрел 87 проходивших по этому делу, в т.ч. поэта Н.С. Гумилева, хотя в данном конкретном случае он и пытался этому противиться, на расстреле якобы настоял лично Г.Е.Зиновьев), по делу участников крестьянского восстания Антонова.
С профессорм Таганцевым Агранов даже лично заключил договор, условия которого естественно не были им выполнены:
Я, гражданин Владимир Николаевич Таганцев, признаю себя виновным:
1) в активном выступлении против советской власти,
2) в организации антисоветской группы,
3) в организациях членов нового правительства, на случай переворотов в России,
4) в объединении союза «Возрождения России» и «Молодой России»,
5) в принятии главенства и руководительства в П.Б.О.
Я, Таганцев, считаю себя глубоко заблуждавшимся и теперь ясно вижу, что новая экономическая политика Советской республики ведет Россию на новую и здоровую дорогу, сожалею, что много людей ввел в заблуждение, и, благодаря мне, они должны понести тяжелую участь.
Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего, буду говорить о наших задачах, целях и взглядах на будущее и не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это делаю для облегчения участи участников нашего процесса.
Я, уполномоченный ВЧК, Яков Соломонович Агранов, при помощи гражданина Таганцева, обязуюсь быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд, где будут судить всех обвиняемых.
Я, Агранов, обязуюсь, в случае исполнения договора со стороны Таганцева, что ни к кому из обвиняемых, как к самому Таганцеву, так и к его помощникам, даже равно как и к задержанным курьерам из Финляндии, не будет применена высшая мера наказания.
Заведующий секретно-оперативным отделом Республики и уполномоченный ВЧК Агранов
Договор читал и подписываюсь
Тогда Агранов в ответ на обвинения в аморальности таких методов расследования заявил: «морально то, что полезно в данный момент международному пролетариату (то есть большевикам)»
Однако, когда в 1922 году главный инспектор военно-учебных заведений РСФСР А.И.Верховский дал показания Агранову, который уверил его от имени коллегии ГПУ и ЦК РКП (б), что эти показания необходимы для исторического выяснения роли партии эсеров, а не для привлечения её членов к ответственности, но затем использовал его показания на суде, Верховный трибунал все же вынес частное определение в адрес Агранова за «явную неправильность в деле допроса свидетеля».
С 24 мая 1923 года по 26 октября 1929 года Агранов - заместитель, затем начальник Секретного (с марта 1931 года Секретно-политического) отдела ОГПУ. С 24 мая 1930 года - помощник начальника, с 14 марта 1931 года - начальник Секретно-оперативного управления (СОУ) ОГПУ.
Имея только четырехклассное начальное образование, иногда представлялся профессором психологии, специализировался на работе с представителями интеллигенции и старыми большевиками, лично долгое время читал курс «Истории ВЧК» в Высшей школе ОГПУ-НКВД.
Не чурался лично проводить допросы (в частности, именно он допрашивал патриарха Тихона, дочь Льва Толстого - Александру Львовну и других),готовил такие известные процессы 1920-х - начала 1930-х годов, как процесс правых эсеров, процессы Промпартии и Трудовой крестьянской партии, по которым были арестованы многие представители интеллигенции.
Агранов принимал непосредственное участие в разработке и проведении знаменитой операции «Трест», ликвидации структур «Народного Союза защиты Родины и Свободы» знаменитого эсера-террориста Б.Савинкова. Активно участвовал в художественной жизни Москвы, близко общался с членами РАППа и ЛЕФа, дружил семьями с Ю.К.Олешей, Бриками, был в дружеских отношениях с Л.Л. Авербахом, Б.А. Пильняком, О.Э. Мандельштамом, В.В. Маяковским и другими. По версии некоторых искусствоведов, именно Агранов организовал «самоубийство» Маяковского.
Это маловероятно, но застрелился поэт действительно из пистолета, подаренного ему Аграновым. Агранов был завсегдатаем «литературных салонов» Лили Брик и Зинаиды Райх, где был известен как «милый Янечка», дружил с Сергеем Есениным и Михаилом Булгаковым (считается, что именно Агранов послужил прототипом образа Афрания в романе «Мастер и Маргарита», а арестованный Аграновым в 1924 году по делу «Ордена русских фашистов» друг Есенина поэт Иван Приблудный - прототипом Ивана Бездомного), что не помешало ему 4 апреля 1937 года, буквально за считанные дни до своей «опалы», санкционировать арест сына Сергея Есенина - Юрия (Георгия) - как «активного участника к/р фашистско-террористической группы».
Как замначальника СПО, Агранов в начале июня 1925 года привлек к сотрудничеству с ОГПУ генерального секретаря Русского автономного масонства Б.В.Астромова, который «сдал» ОГПУ в результате этого сотрудничества ложи ордена мартинистов, «Христианский эзотерический орден», масонские ложи, управлявшиеся Великой ложей Астреи. После чего силами ОГПУ было разгромлено и его Русское автономное масонство, все завершилось летом 1926 года процессом, на котором было осуждено семнадцать масонов, включая и самого Астромова.
Видимо после этого процесса Агранов сказал: «...мы обязаны противопоставить черной и белой, а проще - белогвардейской магии нашу красную магию»
Одновременно с этим он вместе с известными чекистами Г.Бокием и Я.Блюмкиным (потом, в 1929 году, он лично руководил расстрелом Блюмкина и стрелял сам) разрабатывал и реализовывал сложнейшую операцию по организации под руководством Рериха и Блюмкина экспедиции ОГПУ в Тибет под легендой поисков Шамбалы, соответствующие обоснования подготовил профессор А.В.Барченко, который в спецотделе ОГПУ под руководством Бокия занимался астрологией, оккультными науками, опытами по гипнозу, телепатии и прочими подобными проблемами (одновременно он заведовал нейроэнергетической лабораторией ВНИИ экспериментальной медицины).
Агранов организовывал силовое и оперативное обеспечение этой операции. Позднее, в 1935-1936 годах, он же начал подготовку беспрецедентной акции, завершенной уже после его ареста - танкового рейда спецподразделения НКВД по Тибету и Восточному Туркестану, по следам экспедиции Рериха-Блюмкина.
После конфликта в руководстве ОГПУ (между С.А. Мессингом, Е.Г. Евдокимовым, И.А. Воронцовым, Я.К. Ольским и Л.Н. Вельским с одной стороны, и Г.Г. Ягодой, поддержанным В.Р. Менжинским - с другой) Агранов 31 июля 1931 года вошел в состав Коллегии ОГПУ, с 1 сентября (по 21 февраля 1933 года) был назначен полномочным представителем ОГПУ по Московской области (согласно письму Кагановича Сталину, Менжинский, вместе с Акуловым и Балицким, возражал против назначения Агранова на этот пост, считая его незаменимым в СПО). Менжинский предлагал кандидатуру В.Н. Манцева, которого Каганович, считавший, по его словам, «Мессингом № 2», отверг, а кандидатуру Агранова считал «самой подходящей».
Одновременно до 11 июня 1932 года Агранов по совместительству - начальник особого отдела Московского ВО. Пользовался большим доверием и уваженнием у Г.Г. Ягоды, был награжден двумя орденами Красного Знамени (постановления от 14 декабря 1927 года и 20 декабря 1932 года - к 15-летию ВЧК), двумя знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Где-то в это время (не позднее 1929 года) он женился на Валентине Александровне Кухаревой, польке по национальности, вдове расстрелянного за «шпионаж» в пользу Польши красного командира, вскоре у них родилась дочь.
С 21 февраля 1933 года Агранов - зампред ОГПУ, на этом посту по поручению Сталина возглавил компанию по борьбе с «очагами гомосексуализма» в советских и партийных органах:
«3 июня 1934 г.
Зампред ОГПУ Агранов - Сталину.
Сов.секретно.
ОГПУ при ликвидации очагов гомосексуалистов в Москве выявлен, как гомосексуалист, заведующий протокольной частью НКИД Флоринский Д.Т.
...
Флоринский подтвердил свою принадлежность к гомосексуалистам и назвал свои гомосексуальные связи, которые имел до последнего времени с молодыми людьми, из них большинство вовлечено в гомосексуальные отношения впервые Флоринским.
Вместе с этим Флоринский подал заявление на имя Коллегии ОГПУ, в котором он сообщил, что в 1918-м году являлся платным немецким шпионом, будучи завербованным секретарем германского посольства в Стокгольме».
Вкоре после этого Агранов подготовил для Ягоды докладную записку на имя Сталина о том, что
«актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот».
С 10 июля 1934 года по 17 мая 1937 года Агранов - 1-й замнаркома внутренних дел СССР. Член ЦРК ВКП(б) (XVII съезд), член ЦИК СССР (VII созыв).
После убийства С.М. Кирова и смещения начальника УНКВД ЛО Ф.Д. Медведя 2 декабря 1934 года прибыл в Ленинград вместе со Сталиным, в течение 4 дней исполнял обязанности начальника УНКВД, возглавил руководство следствием по этому делу, был инициатором массовых арестов; по версии некоторых историков именно он занимался непосредственной организацией самого убийства. За 10 дней были составлены списки подлежащих высылке, как «не внушающих политического доверия», из Ленинграда более 11 тысяч человек, затем Агранов лично возглавил Особое совещание, осудившее большинство фигурантов дела.
На оперативном совещании оперсостава НКВД СССР 3 февраля 1935 года по результатам расследования убийства Кирова, Агранов докладывал:
«Наша тактика сокрушения врага заключалась в том, чтобы столкнуть лбами всех этих негодяев и их перессорить. А эта задача была трудная. Перессорить их было необходимо потому, что все эти предатели были тесно спаяны десятилетней борьбой с нашей партией. Мы имели дело с матерыми двурушниками, многоопытными очковтирателями.
В ходе следствия нам удалось добиться того, что Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Сафаров, Горшенин и другие действительно столкнулись лбами».
С 23 августа 1935 года Агранов организовывал также замену звездами имперских орлов на башнях Кремля, производившуюся силами НКВД, для чего истребовал «на звезды» 67,9 кг золота. К ноябрю четыре звезды были установлены на Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях, но оказались «вредительскими», и в 1937 году их заменили на хорошо всем известные рубиновые звезды-светильники. До наших дней сохранилась только одна из «аграновских» звезд (со Спасской башни), установленная на шпиле Северного речного вокзала в Москве.
26 ноября 1935 года, после введения специальных званий ГБ (что интересно - он и был инициатором их введения), Агранову присвоено звание комиссар государственной безопасности 1-го ранга.
Агранов был одним из главных организаторов политического процесса по делу Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и т.д., он не только сохранил свое положение после прихода в НКВД Н.И. Ежова, но и объединил в одном лице с 29 декабря 1936 года посты первого замнаркома и начальника ГУГБ НКВД. Под личным контролем Агранова проводились допросы Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Тухачевского и других. Именно под его руководством готовились материалы для главных политических процессов 1930-х годов в СССР. Долгое время Агранов пользовался исключительным доверием Сталина, ранее в подмосковном Зубалово их дачи располагались рядом и они часто вместе проводили время.
После расстрела Агранова, уже на своем суде, Ежов говорил:
«Никакого заговора против партии и правительства не организовывал, а наоборот, все зависящее от меня я принимал к раскрытию заговора. В 1934 году я начал вести дело «О кировских событиях». Я не побоялся доложить в Центральный Комитет о Ягоде и других предателях ЧК. Эти враги, сидевшие в ЧК, как Агранов и другие, нас обводили, ссылаясь на то, что это дело рук латвийской разведки.
Мы этим чекистам не поверили и заставили открыть нам правду об участии в этом деле протроцкистской организации. Будучи в Ленинграде в момент расследования дела об убийстве С. М. Кирова, я видел, как чекисты хотели замазать это дело. По приезде в Москву я написал обстоятельный доклад по этому вопросу на имя Сталина, который немедленно после этого собрал совещание.
При проверке партдокументов по линии КПК и ЦК ВКП(б) мы много выявили врагов и шпионов разных мастей и разведок. Об этом мы сообщили в ЧК, но там почему-то не производили арестов. Тогда я доложил Сталину, который вызвал к себе Ягоду, приказал ему немедленно заняться этими делами. Ягода был этим очень недоволен, но был вынужден производить аресты лиц, на которых мы дали материалы.
Спрашивается, для чего бы я ставил неоднократно вопрос перед Сталиным о плохой работе ЧК, если бы был участником антисоветского заговора.
Мне теперь говорят, что все это ты делал с карьеристской целью, с целью самому пролезть в органы ЧК. Я считаю, что это ничем не обоснованное обвинение, ведь я, начиная вскрывать плохую работу органов ЧК, сразу же после этого перешел к разоблачению конкретных лиц.
Первым я разоблачил Сосновского - польского шпиона. Ягода же и Менжинский подняли по этому поводу хай и вместо того, чтобы арестовать его, послали работать в провинцию. При первой же возможности Сосновского я арестовал. Я тогда не разоблачал Миронова и других, но мне в этом мешал Ягода. Вот так было и до моего прихода на работу в органы ЧК.»
«Из Сочи. 25.09.36. Кагановичу, Молотову. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост Наркомвнудела. Ягода оказался явным образом не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско–зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на 4 года. Замом Ежова можно оставить Агранова. Сталин, Жданов.»
Однако уже в конце 1936 года Ежов якобы получил от Сталина ценное указание:
«Агранов - это неискренний человек, провокатор. Надо еще посмотреть, как он вел следствие по делу об убийстве товарища Кирова, может быть, так, чтобы запутать все дело. Ягода всегда делал на него ставку.»
С 15 апреля 1937 года Агранов (он все же продолжал считаться «человеком Ягоды», хоть и выступил на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) с жесткой критикой прежнего руководства НКВД) понижен до замнаркома и начальника 4-го отдела (СПО) ГУГБ НКВД. В начале апреля Ежов сообщил Сталину, что на Агранова от «бдительных товарищей по работе» поступают сигналы о его симпатиях к Троцкому, что он проводил вечера в компании с Каменевым, Бухариным и Радеком, когда они находились под следствием. На это Сталин якобы ответил ему:
«Ты – нарком, решай сам. Раз человек запачкался, его надо убрать».
С 17 мая 1937 года Агранов отправлен Ежовым в «ссылку» - начальником Саратовского облуправления НКВД.
Арест, смерть и попытки реабилитации
Из Саратова (проживал там по Пушкинской д.22), будучи фактически сослан и отстранен от дел, Агранов написал Сталину письмо, в котором предлагал арестовать Крупскую и Маленкова, в то время завотделом руководящих парторганов ЦК. Маленков (вместе с членом Политбюро А.А. Андреевым) из Саратова, куда летом 1937 его послал Сталин для «чистки» местного руководства, предложил арестовать Агранова.
19 июля Маленков доложил Сталину из Саратова, что партийное руководство области сменено, снятый с должности бывший первый секретарь обкома должен быть арестован, а чистку необходимо продолжить:
«... 5) Ознакомление с материалами следствия приводит к выводу, что в Саратове остается до сих пор неразоблаченной и неизъятой серьезная право-троцкистская шпионская организация.
Агранов, видимо, и не стремился к этому.
В то же время, на основании личных, произведенных т. Строминым и т. Маленковым, допросов сотрудников УНКВД и некоторых арестованных, установлено, что следствие направлялось по явно неправильному пути.
Есть арестованные, не имеющие никакого отношения право-троцкистским организациям, ложные показания которых были продиктованы следователями под руководством Агранова, а ближайшим помощником его в этом деле является Зарицкий, довольно подозрительная личность, которого пришлось арестовать. Сам аппарат Саратовского УНКВД до сих пор остается нерасчищенным от врагов, оставленных Пилляром и Сосновским. Агранов ничего в этом отношении не сделал. На основании этого считаем целесообразным Агранова сместить с должности и арестовать».
После этого Агранов был исключен из ВКП(б) с формулировкой «за систематические нарушения социалистической законности».
20 июля 1937 года Агранов был арестован. После продолжительного следствия «признал» себя виновным в принадлежности к антисоветской троцкистской организации и 1 августа 1938 года был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда (ВКВС) СССР. Через несколько дней (по некоторым данным - 26 августа) после этого была осуждена по обвинению в шпионаже и расстреляна его жена Валентина Александровна Кухарева-Агранова.
Интересно, что помимо «принадлежности к антисоветской троцкистской организации» Агранову была вменена и ст.58.11 УК РСФСР, предусматривавшая отвественность за
«активные действия или активную борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственных или особо-секретных должностях при царском строе или у контр-революционных правительств в период гражданской войны»
Таким образом, не исключено что в ходе расследования всплыли какие-то факты о сотрудничестве Агранова например с царской охранкой или военнной контрразведкой - недаром он так легко порвал с партией эсэров и потом активно организовывал репресси против ее бывших членов.
В октябре 1955 года Главная военная прокуратура, рассмотрев ходатайство дочери казненного, отказала в пересмотре дела Агранова и его реабилитации как виновного в организации массовых репрессий:
«1. …Агранов за принадлежность к антисоветской организации был осужден необоснованно.
2. Материалами дела и дополнительной проверкой полностью доказана вина Агранова в систематическом нарушении социалистической законности в период его работы в органах НКВД.
3. В связи с этим является нецелесообразным входить с заключением в Военную Коллегию Верховного Суда СССР на предмет прекращения дела в отношении Агранова, в части принадлежности его к антисоветской организации».
Его жене Валентине Кухаревой-Аграновой повезло больше: она была полностью реабилитирована решением ВКВС от 24 октября 1957 года.
При повторном пересмотре дела Агранова в период массовой реабилитации 1988-1991 годов решение ГВП от 1955 года оставлено в силе.
Телеграмма Андреева и Маленкова Сталину об Агранове
№ 207
А. А. Андреев, Г. М. Маленков - И. В. Сталину
19 июля 1937 г.
Товарищу Сталину.
Пленум Саратовского провели. Решение привезет с собой т. Маленков, выезжающий завтра в Москву. основании обсуждения решения ЦК ВКП(б) на пленуме и ознакомления с обстановкой на месте сообщаем Вам следующее:
1) Установлены новые факты в отношении Криницкого и Яковлева - проведение ими через обком явно вредительских мер по сельскому хозяйству, прямая защита изобличаемых правых и троцкистов и даже вы несение решений обкома, реабилитирующих изобличенных врагов.
2) Имеются прямые показания бывшего второго секретаря Саратовского обкома партии Липендина, бывшего редактора областной газеты Касперского и других об участии Криницкого и Яковлева в Саратов ской право-троцкистской организации, есть даже прямое показание Липендина о том, что Криницкий и Яковлев обязывали его создать тергруппу.
3) Выступления Криницкого и Яковлева на пленуме обкома по общему мнению были фальшивыми и заранее подготовленными.
4) По окончании пленума Криницкому и Яковлеву предложено не медленно выехать Москву. Считаем целесообразным по прибытии в Москву их арестовать.
5) Ознакомление с материалами следствия приводит к выводу, что в Саратове остается до сих пор неразоблаченной и неизъятой серьезная право-троцкистская шпионская организация.
Агранов, видно, и не стремился к этому.
В то же время, на основании личных, произведенных т. Строминым и т. Маленковым, допросов сотрудников УНКВД и некоторых арестованных, установлено, что следствие направлялось по явно неправильному пути.
Есть арестованные, не имеющие никакого отношения право-троцкистским организациям, ложные показания которых были продиктованы следователями под руководством Агранова, а ближайшим помощником его в этом деле является Зарицкий, довольно подозрительная личность, которого пришлось арестовать. Сам аппарат Саратовского УНКВД до сих пор остается нерасчищенным от врагов, оставленных Пилляром и Сосновским. Агранов ничего в этом отношении не сделал.
На основании этого считаем целесообразным Агранова сместить с должности и арестовать.
На месте примем все меры, чтобы очистить область от неразоблаченных шпионов и вредителей.
Саратовская организация встретила решение ЦК ВКП(б) с большим удовлетворением.
Занялись вопросами уборки. Для ознакомления выезжаем в районы.
Яков Саулович Агранов (наст. имя - Янкель Шмаевич Соренсон ; 12 октября 1893 года, Чечерск, Могилёвская губерния, ныне Гомельская область - 1 августа 1938 года, Расстрельный полигон «Коммунарка») - сотрудник ВЧК - ОГПУ - НКВД, комиссар государственной безопасности 1-го ранга (26 ноября 1935), один из организаторов массовых репрессий 1920-х - 1930-х годов. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
Биография
Яков Агранов родился 12 октября 1893 года в местечке Чечерск Могилёвской губернии в семье лавочника-еврея. Закончил четыре класса городского училища.
В 1912 году Агранов вступил в ПСР, работал конторщиком в Гомеле на лесном складе Левина и одновременно вёл революционную деятельность.
В 1915 году вступил в РСДРП, в апреле 1915 года был арестован и сослан в Енисейскую губернию. В 1917 году был назначен на должность секретаря Полесского обкома РСДРП, а в 1918 году - на должность секретаря Совета Народных Комиссаров РСФСР.
В мае 1919 года Агранов был направлен на работу в ЧК и был назначен на должность особоуполномоченного Особого отдела ВЧК, в 1921 году - на должность секретаря Малого Совнаркома и особоуполномоченного секретно-оперативного управления ВЧК. На этих должностях Агранов руководил расследованием обстоятельств Кронштадтского восстания, крестьянского восстания Антонова, дела «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» и ряда других. Также по поручению В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского Агранов составлял списки лиц, подлежащих высылке из РСФСР.
В 1922 году был назначен на должность начальника Особого бюро ОГПУ по административной высылке «антисоветских элементов», в 1923 году - на должность заместителя начальника, а в 1929 году - на должность начальника Секретного отдела ОГПУ СССР. «Курировал» творческую интеллигенцию, дружил со многими знаменитыми писателями, поэтами и артистами. Был близко знаком с Владимиром Маяковским, Лилей Брик, Леопольдом Авербахом и Борисом Пильняком.
В марте 1931 года был назначен на должность начальника Секретно-политического отдела ОГПУ СССР. Был членом Коллегии ОГПУ. В сентябре 1931 года был назначен на должность полпреда ОГПУ СССР по Московской области, а в феврале 1933 года - на должность заместителя председателя ОГПУ СССР В. Р. Менжинского.
В феврале 1934 года на XVII съезде ВКП(б) Агранов был избран членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б).
В июле 1934 года после создания НКВД СССР был назначен на должность первого заместителя наркома внутренних дел СССР Г. Ягоды. Фактически руководил работой всех оперативных отделов Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.
В декабре 1934 года Агранов руководил следствием по делу об убийстве С. М. Кирова и был назначен временным начальником Управления НКВД Ленинградской области. Вместе с Г. Г. Ягодой и Н. И. Ежовым Агранов был одним из организаторов процесса над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым. Агранов подготовил материалы для главных политических процессов 1930-х годов. При этом, как замечает историк О. В. Хлевнюк, Агранов фактически вступил в заговор против наркома внутренних дел НКВД Ягоды с Ежовым, поскольку Ягода мягко саботировал линию Сталина на увязывание убийства Кирова с деятельностью бывших оппозиционеров. В 1936 году Агранов на совещании в НКВД сообщал:
Ежов вызвал меня к себе на дачу. Надо сказать, что это свидание носило конспиративный характер. Ежов передал указание Сталина на ошибки, допускаемые следствием по делу троцкистского центра, и поручил принять меры, чтобы вскрыть троцкистский центр, выявить явно невскрытую террористическую банду и личную роль Троцкого в этом деле. Ежов поставил вопрос таким образом, что либо он сам созовёт оперативное совещание, либо мне вмешаться в это дело. Указания Ежова были конкретны и дали правильную исходную нить к раскрытию дела
РСДРП с 1915 года
ОГПУ
НКВД
 |
 |
Я́ков Сау́лович Агра́нов (наст. имя - Янкель Шмаевич Соренсон ; 12 октября 1893 года , Чечерск , Могилёвская губерния , ныне Гомельская область - 1 августа 1938 года , Расстрельный полигон «Коммунарка») - сотрудник ВЧК - ОГПУ - НКВД , комиссар государственной безопасности 1-го ранга (26 ноября 1935), один из организаторов массовых репрессий 1920-х - 1930-х годов .
Биография
В июле 1934 года после создания НКВД СССР был назначен на должность первого заместителя наркома внутренних дел СССР Г. Ягоды . Фактически руководил работой всех оперативных отделов Главного управления государственной безопасности НКВД СССР .
В декабре 1934 года Агранов руководил следствием по делу об убийстве С. М. Кирова и был назначен временным начальником Управления НКВД Ленинградской области . Вместе с Г. Г. Ягодой и Н. И. Ежовым Агранов был одним из организаторов процесса над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым . Агранов подготовил материалы для главных политических процессов 1930-х годов. При этом, как замечает историк О. В. Хлевнюк , Агранов фактически вступил в заговор против наркома внутренних дел НКВД Ягоды с Ежовым, поскольку Ягода мягко саботировал линию Сталина на увязывание убийства Кирова с деятельностью бывших оппозиционеров. В 1936 году Агранов на совещании в НКВД сообщал:
Ежов вызвал меня к себе на дачу. Надо сказать, что это свидание носило конспиративный характер. Ежов передал указание Сталина на ошибки, допускаемые следствием по делу троцкистского центра, и поручил принять меры, чтобы вскрыть троцкистский центр, выявить явно невскрытую террористическую банду и личную роль Троцкого в этом деле. Ежов поставил вопрос таким образом, что либо он сам созовёт оперативное совещание, либо мне вмешаться в это дело. Указания Ежова были конкретны и дали правильную исходную нить к раскрытию дела
В декабре 1936 года (фактически руководил с декабря 1935) был назначен на должность начальника ГУГБ НКВД СССР . Принял активное участие в подготовке Второго московского процесса , следствии по делу М. Н. Рютина и других членов рютинской оппозиции.
Яков Саулович Агранов был реабилитирован решением Главной военной прокуратуры от 22 января 2013 года , однако 27 августа 2013 года Верховный суд России отменил данное решение о реабилитации.
Его жена Валентина Александровна (до замужества Кухарева), арестованная одновременно с ним, 26 августа 1938 года была приговорена к расстрелу и расстреляна в этот же день. В 1957 году реабилитирована полностью.
Награды
- Два Ордена Красного Знамени (14.12.1927, 20.12.1932)
- Знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (20.12.1932)
Воспоминания современников
При Дзержинском состоял, а у Сталина дошёл до высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов,… не связанный с Россией выходец из царства Польского, ставший палачом русской интеллигенции. Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских учёных: профессора Тихвинского, профессора Волкова, профессора Лазаревского, Н.Н. Щепкина, братьев Астровых, К. К. Черносвистова, Н.А. Огородникова и многих других. Профессора В. Н. Таганцева , не желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую камеру, и держал его там 45 дней, пока путём пытки и провокации не добился нужных показаний. Агранов уничтожил цвет русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, как «по убеждениям сторонник демократического строя» или «враг рабочих и крестьян» (с точки зрения Агранова-убийцы). Это же кровавое ничтожество является фактическим убийцей замечательного русского поэта Н.С. Гумилёва…
Яков Агранов, замечательный человек, твёрдый чекист. Раньше он работал в Секретариате у Ленина. Честный, спокойный, умный человек. Мне он очень нравился. Потом он был особоуполномоченным по следствию, занимался делом Промпартии . Это, действительно, был следователь! Он и голоса не повышал при разговорах, а не то чтобы применять пытки. Арестовали и его и тоже казнили .
О своих встречах со следователем Аграновым упоминала в своих воспоминаниях Галина Серебрякова .
Напишите отзыв о статье "Агранов, Яков Саулович"
Примечания
Литература
- Биографический энциклопедический словарь. - М, Вече, 2000.
- Большая Российская энциклопедия. Т. 1. - М: Большая Российская энциклопедия, 2005. - С. 189.
- // Петров Н. В., Скоркин К. В. / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского - М.: Звенья, 1999. - 504 с. - ISBN 5-7870-0032-3
- Велидов А. «Похождения террориста. Одиссея Якова Блюмкина». - М.: Современник , 1998.
- Макаревич Э. Яков Агранов - чекист, пришедший к интеллигентам // Диалог. - 2000. - № 7. - С. 69-74.
- Энциклопедия секретных служб России / Автор-составитель А.И.Колпакиди. - М .: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. - С. 420-421. - 800 с. - ISBN 5-17018975-3 .
Ссылки
- на сайте Хронос
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Агранов, Яков Саулович
– Господин, позвольте вас попросить с дороги, – сказал он ему, – здесь нельзя.Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.
– И как это вы не боитесь, барин, право! – обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
– А ты разве боишься? – спросил Пьер.
– А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь.
Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.
– Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!
– По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.
– Чиненка! – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. – Не сюда! К пехотным! – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
– Что, знакомая? – смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.
Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.
– И цепь сняли, видишь, назад прошли, – говорили они, указывая через вал.
– Свое дело гляди, – крикнул на них старый унтер офицер. – Назад прошли, значит, назади дело есть. – И унтер офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.
– К пятому орудию накатывай! – кричали с одной стороны.
– Разом, дружнее, по бурлацки, – слышались веселые крики переменявших пушку.
– Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, – показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. – Эх, нескладная, – укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.
– Ну вы, лисицы! – смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.
– Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! – кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.
– Тое кое, малый, – передразнивали мужиков. – Страсть не любят.
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он.
– Картечь! – не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.
Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.
– Все картечью! – кричал офицер.
Унтер офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.
– Разбойники, что делают! – закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. – Беги к резервам, приводи ящики! – крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.
– Я пойду, – сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.
– Не стрелять… Выжидай! – кричал он.
Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.
– Эх, барин, не место тебе тут, – сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.
Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» – вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.
Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие то люди что то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» – и видел еще что то странное.
Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за гордо. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.
Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.
Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)
Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.
С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.
Пьер побежал вниз.
«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» – думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.
Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.
Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.