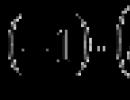Основание царскосельского лицея. Самые знаменитые лицеисты Самые известные выпускники царскосельского лицея
Царскосельский лицей. Современное фото
12 августа 1810 года император Александр I подписал указ об учреждении в Царском Селе лицея для «образования юношества, предназначенного к важным частям службы государственной».
Автором проекта создания Лицея был М.М. Сперанский, известный своими реформаторскими идеями. В новом учебном учреждении, создаваемом им, он мечтал воспитывать людей, способных в дальнейшем претворить в жизнь все намеченные им планы преобразования России. Сам Сперанский был широко образованным человеком, поэтому хотел, чтобы у государственной власти стояли люди, умеющие мыслить, обладающие широкими знаниями и желающими употребить их для блага Отечества.
Об этом же говорил и адъюнкт-профессор нравственных и политических наук Александр Петрович Куницын в программной речи на открытии Лицея: «Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями».
Осенью 1811 г. состоялся первый набор лицеистов. Принимались дети 10-12 лет, число воспитанников должно было составлять 30 человек.

Высочайшая грамота Александра I, дарованная Лицею
19 октября 1811 г. в Царском Селе состоялось открытие Лицея – нового учебного заведения для мальчиков из привилегированных семей. Свое название это учебное заведение получило от названия окраины древнегреческих Афин (Ликей), где в саду рядом с храмом Аполлона Аристотель занимался с учениками.
Царскосельский лицей был совершенно новым для России типом образовательного учреждения, сам Александр I держал под пристальным вниманием его организацию.
Первоначально Лицей разместили в 4-этажном флигеле Екатерининского дворца, перестроенного для этого архитектором В. Стасовым.
Лицей планировался как закрытое учебное заведение, где ученики должны были не только учиться, но и жить. По уровню получаемого образования Лицей приравнивался к университету.

Программа обучения была рассчитана на 6 лет: 2 курса по 3 года каждый. Ученики должны были получать общее образование с преобладанием гуманитарных наук. На первом курсе в программе обучения были математика, грамматика, история, «изящные письмена» — словесность, изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание). На старшем курсе особое внимание уделялось «наукам нравственным» (Закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая экономия), истории, математике, иностранным языкам.
При этом особое внимание уделялось обучению словесности: каждый ученик должен научиться писать сочинение на заданную тему, излагая свои мысли правильно и изящно.
Не менее пристальное внимание уделялось изучению российской истории, которое предусматривало знание родной страны, ее прошлого, настоящего и будущего.
Сразу после подписания императором Указа о Лицее в августе 1810 г. был объявлен набор лицеистов, подали прошение о приеме своих детей 38 семей, поэтому был устроен приемный экзамен и медицинский осмотр. Кроме того, для претендентов на обучение требовались рекомендации влиятельных лиц (например, Пушкина приняли по рекомендации известного литератора А. Тургенева и его дяди В.Л. Пушкина).
В октябре будущие лицеисты начали съезжаться в Царское Село, где их встречали директор Лицея и преподаватели.

В.Ф. Малиновский - первый директор Царскосельского лицея
Первым директором Царскосельского лицея был Василий Федорович Малиновский — один из образованнейших людей своего времени. Он верил в особое назначение нового учебного заведения, и, получив право лично подбирать педагогов, пригласил самых передовых и талантливых людей. Им был создан известный по многим воспоминаниям лицеистов тот самый «лицейский дух», который его воспитанники пронесли через всю жизнь. Что же это был за дух? Это особенная атмосфера, в которой свободно можно было обменяться мнениями, где обсуждались самые острые темы общества. Педагоги и воспитатели относились к лицеистам как ко взрослым, обращались к ним на «вы», а некоторые воспитанники и друг к другу обращались на «вы».
На торжественном открытии Лицея 19 октября 1811 г. присутствовали Александр I, его семья, самые знатные и влиятельные люди России. В центре зала стоял покрытый красным сукном стол и на нем лежала грамота об учреждении Лицея. По одну сторону стола стояли лицеисты вместе с директором В.Ф. Малиновским, а по другую — профессора. За столом сидели почетные гости во главе с императором Александром I.

Царскосельский лицей. Большой зал
Директор Лицея В. Ф. Малиновский произнес торжественную речь, а затем к воспитанникам обратился профессор Куницын. Его выступление лицеисты с благодарностью вспоминали всю жизнь. После торжественной церемонии для мальчиков был устроен обед, а для гостей — осмотр помещения Лицея. Вечером все радовались великолепному фейерверку.
30 мальчиков начали новую жизнь. Каждому была предоставлена небольшая комната с самой необходимой мебелью: железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания. На конторке — чернильница и подсвечник со щипцами.
Распорядок дня у лицеистов был суровым: подъем в 6 утра, утренняя молитва, с 7 до 9 утра — классы, в 9 часов утра — чай, до 10 — прогулка, с 10 до 12 — классы, потом прогулка, обед, снова занятия чистописанием и рисованием, с 3 до 5 — снова классы, прогулка, повторение уроков. В 9 часов вечера ужин, в 10 — вечерняя молитва и чай. Никто из лицеистов в течение 6 лет обучения не должен был покидать Лицей, а родным разрешалось посещать мальчиков только по праздникам.

Физический кабинет Царскосельского лицея
День 19 октября стал для лицеистов священным. Они всегда стремились 19 октября собраться вместе, хотя у каждого из них была своя жизнь. С каждым годом все меньше и меньше лицеистов приходило на встречу…
Пушкин и все его друзья считали истинно лицейским только свой первый выпуск. Так оно и было: хотя история Лицея была долгой, но программа обучения в нем изменилась, преподаватели были другими, а главное – не было уже того неповторимого лицейского духа…
10 самых известных воспитанников Царскосельского Лицея
Александр Пушкин
(1799 - 1837)
Разумеется, самым известным и почитаемым выпускником Лицея можно назвать Александра Сергеевича Пушкина, которого уже при жизни негласно короновали, назвав гением и «солнцем русской поэзии».
Нужно сказать, что не прояви отец Пушкина родительской сознательности, учился бы будущий великий поэт в Иезуитском коллегиуме в Петербурге. Однако, узнав о том, что Александр I вознамерился открыть в Царском селе учебное заведение, отец незамедлительно решил, что сын должен поступить именно туда и никуда кроме.
По сути, в Лицее должны были бесплатно жить и учиться дети родовитых дворян, которым предстояло в будущем занимать важные государственные должности по дипломатической и военной части. Невзирая на то, что подающих надежды отпрысков было много, Лицей готов был принять под свою сень всего только тридцать воспитанников. Стоит отметить, что Пушкин не был столь высокого происхождения, чтобы обучаться вместе с великими князьями. Отец его стал хлопотать, искать протекцию и поддержку влиятельных людей и, наконец, добился своего: сыну разрешили держать экзамен.
Летом юный Пушкин выехал вместе с дядюшкой Василием Львовичем из Москвы в Петербург и, выдержав экзамен, был принят. По приезду в Лицей поэт стал жить в одной комнате с Иваном Пущиным - будущим декабристом. Как вспоминали близкие друзья и преподаватели, Пушкин часто бывал рассеян, переменчив, неусидчив и не проявлял никаких способностей к математике - поговаривали, что поэт даже плакал на задней парте, смотря на доску, где преподаватель писал цифры да примеры. Между тем, он отлично упражнялся в языках, с увлечением изучал историю и, самое главное, именно в Лицее открыл в себе талант к поэзии, который неустанно оберегал поэт Василий Жуковский, а позже - Гавриил Державин.
Александр Горчаков
(1798 — 1883) )
Последнего канцлера Российской империи, Александра Михайловича Горчакова, с юношеских лет отличали таланты, необходимые блестящему дипломату. Его кумиром был граф Иоанн Каподистрия, «управляющий азиатскими делами» МИДа в 1815-1822 годах.
«Желал бы я служить под его начальством», - говорил Горчаков.
В Лицее он постигал не только гуманитарные, но также точные и естественные науки. «Тебе рукой Фортуны своенравной указан путь и счастливый и славный», - писал своему другу Александру его теска, Александр Пушкин. Предсказание поэта сбылось - Горчаков стал главой русского внешнеполитического ведомства при Александре II.
Как писал в одной из своих работ доктор исторических наук, профессор Вячеслав Михайлов, «суть «горчаковской» дипломатии состояла в том, что, играя не столько на противоречиях, а главным образом на нюансах европейской дипломатии, без единого выстрела, без какого-либо жесткого прессинга, в течение нескольких лет Россия оказалась свободна от всех унизительных договоров и вновь вошла в ряд ведущих Европейских держав».
Иван Пущин
(1798-1859 )
Иван Пущин был одним из первых близких друзей Пушкина, с которым он делил комнату в Лицее. В будущем Иван Иванович стал декабристом и рассказывал своему товарищу о тайных обществах и вышедшей в свет книге «Горе от ума», которая тогда всколыхнула читающую Россию. Однако в четырнадцать лет это был обычный юноша «с весьма хорошими дарованиями, всегда прилежный и ведущий себя благоразумно, который проявляет благородство, воспитанность, добродушие, скромность и чувствительность.
Став взрослее, Пущин примкнул к «Священной артели», стал членом «Союза спасения», «Союза благоденствия», «Северного общества» и принадлежал к наиболее революционному крылу декабристов. Позже он был приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней сибирской каторгой. В 1856 году, в возрасте 58 лет, он был возвращен из ссылки. Через год он женился на вдове декабриста Михаила Фонвизина - Наталье Апухтиной. Но брак продлился недолго: 3 апреля 1859 года Иван Пущин скончался в имении Марьино.
Модест Корф
(1800 —1876)
«Дьячок Мордан» - так прозвали в Лицее сына барона Корфа.
Директор Императорского Царскосельского Лицея Василий Малиновский отзывался о 12-летнем воспитаннике в самых лестных выражениях, отмечая прилежность и опрятность юноши. Лишь среди качеств, которые могли мешать юному Корфу, он указывал «осторожность и боязливость, препятствующие ему быть совершенно открытым и свободным».
Однако эти качества не помешали Модесту Андреевичу сделать блестящую карьеру. Он управлял делами комитета министров, являлся руководителем негласного комитета для надзора за книгопечатанием, был директором Санкт-Петербургской публичной библиотеки. К его заслугам можно причислить то, что он основал в библиотеке особый отдел иностранных книг о России, продвинул составление каталогов, а также смог привлечь частные пожертвования к финансированию учреждения.
Михаил Салтыков-Щедрин
(1826 — 1889)
Когда будущий писатель обучался в Лицее, он был примечателен, прежде всего, своим мрачным видом.
Мемуаристка и жена Некрасова Авдотья Панаева вспоминала: «Я видела его еще в мундире лицеиста в начале сороковых годов. Он приходил к нему по утрам по праздникам. Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Помню только раз на лице молчаливого и сумрачного лицеиста улыбку».
Если Пушкин вспоминал лицей с теплотой, то Салтыков-Щедрин сохранил в воспоминаниях образ казённого учебного заведения, в котором он не нашел ни одного близкого друга и где «педагогика была во всех смыслах мрачная: и в смысле физическом, и в смысле умственном». Впрочем, писатель был прав в своём недовольстве: система обучения в Лицее изменилась с пушкинских времён.
«Своеобразное аристократическое приволье и комфорт сменились серым, нивелированным и достаточно суровым режимом полувоенного интерната». В Лицее той поры систематически наказывали воспитанников: заставляли стоять в углу и заключали в карцер. По воспоминаниям писателя, он не был прилежным учеником, но хорошо знал языки, имел глубокие познания в политической экономии, русской истории и юридических науках.
(1822 — 1862)
За прилежание и успехи будущего русского поэта перевели из Московского дворянского института в Царскосельский лицей, несмотря на то, что он был недворянского происхождения и семья жила в большой нужде.
Моментом взлёта его творческой карьеры стоит считать день и час, когда он близко сошёлся с издателем учёно-литературного журнала «Москвитянин» Погодиным, а позже и с самим драматургом Островским. Произведения Мэя, которые сначала не принимались обществом и клеймились как несовременные и камерные, впоследствии стали широко известны, а сюжеты драм в стихах «Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия» легли в основу оперы композитора Римского-Корсакова.
Фёдор Матюшкин
(1799 — 1872)
Будущий полярный исследователь и адмирал Фёдор Матюшкин закончил Лицей в один год с Александром Пушкиным. Добродушного мальчика, обладающего мягким характером, но твёрдой волей, сразу же полюбили как сокурсники, так и преподаватели. Буквально в первые месяцы обучения он проявил недюжинные способности к географии и истории. Невзирая на то, что он обладал живым характером, всегда оставался скромным, в табеле, в котором писали характеристики по каждому из выпускников, было указано: «Весьма благонравен, при всей пылкости вежлив, искренен, добродушен, чувствителен; иногда гневен, но без грубости».
Сразу же после окончания курса отправился в кругосветное плавание, а ещё позже участвовал в экспедиции Врангеля. Эти путешествия стали грёзами наяву, которые преследовали его во время учёбы в лицее и которые «подпитывал» Пушкин, рисуя перед воображением Фёдора с помощью своей живой речи и поэзии невиданные и чарующие дальние страны. Любопытно, но своей семьи Матюшкин не имел и, встав на последний якорь в Петербурге, он поселился у лицейского товарища Яковлева. Позже он переехал в гостиницу, где прожил больше 15 лет. Только в последние годы жизни он построил дачу неподалёку от Бологого. Пережил Матюшкин почти всех своих однокурсников.
Михаил Петрашевский
(1821 - 1866)
Царскосельский университет закончил и русский революционер Михаил Петрашевский - организатор собраний «петрашевцев», которых в 1849 году осудили за эти самые сборища, невзирая на то, что хоть и были все члены его в каком-то роде «вольнодумцами», но были неоднородны по своим взглядам и лишь единицы имели замысли революционного характера.
В свои молодые годы на собрания также приходил Фёдор Достоевский. Именно тогда произошёл скандальный случай, получивший название «инсценировка казни», когда на осуждённых оказали психологическое давление, привезя их на эшафот, и держали до последней минуты, ожидали, что кто-то из них выболтает нужные сведения. На тот момент «осуждённые» уже были помилованы. Это была милая «шутка» от Александра II.
Сам же Петрашевский, который держал дома литературу по истории революционных движений, утопическому социализму, материалистической философии, а также выступал за демократизацию политического строя России и освобождение крестьян с землёй, был сослан на вечное поселение в Сибирь.
Владимир Вольховский
(1798 — 1841)
Будущий генерал-майор Вольховский был лицеистом первого выпуска. Как это часто бывало, за заметные успехи в учёбе, был переведён из Московского университетского пансиона в Царскосельский Лицей, где получил прозвища «Sapientia» (мудрость) за то, что умел оказать влияние даже на самых упёртых и нерадивых однокашников, и «Суворочка» — уменьшительно-ласкательное от фамилии «Суворов».
Роста Вольховский был небольшого, но обладал сильным характером и несгибаемой волей. По окончании Лицея был замечен в организации «Священная артель» — ставшей предтечей сборища декабристов, а также участвовал в совещаниях у Ивана Пущина и других членов тайного общества. Позже был отмечен в сражениях русско-турецкой войны и даже был консулом в Египте.
Николай Данилевский
(1822 — 1885)
Русский социолог, культуролог и основатель цивилизованного подхода к истории, закончил Царскосельский Лицей в 1843 году, выдержал магистерский экзамен, а уже в 1849 был арестован по делу всё того же Петрашевского. Оправдательная записка спасла его от суда, но не от ссылки. Данилевский был определен в канцелярию вологодского, а затем — самарского губернатора.
Нужно сказать, что основания для подозрений в политической неблагонадёжности у власти были: Данилевский увлекался, как и все «петрашевцы», утопической социалистической системой Фурье. Однако судьба сложилась иначе: Данилевский не сложил голову на плахе, а отправился исследовать рыболовство по Волге и Каспийскому морю, а после прославился, написав историко-философский труд «Россия и Европа».
Данилевский одним из первых уделил внимание признакам упадка и прогресса цивилизации, и собрав обширный фактологический материал, доказал неминуемую повторяемость социальных порядков. Эдакая идея вечного возвращения по Ницше, но в зачаточном состоянии. Наряду со Шпенглером, Данилевский считается основателем цивилизационного подхода к истории.
культура искусство общество общество
Когда-то на окраине Афин, близ храма Аполлона Ликейского, существовала школа, основанная великим философом прошлого Аристотелем. Она называлась Ликеем или Лицеем. 19 октября 1811 года учебное заведение под этим же названием открылось в Царском Селе, близ Петербурга. И, наверное, его создатели надеялись, что Царскосельский лицей в чем-то станет преемником знаменитой школы древности, о которой здесь, в Царском Селе, напоминала прекрасная парковая архитектура. Однако не только о мире вечного искусства говорила она. Парки хранили память о славных страницах русской истории - о боях Петра Великого, о победе русского оружия при Кагуле, Чесме, Морее.

История учреждения лицея
«Учреждение лицея имеет целью образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной», - гласил первый пункт лицейского устава. Автор проекта создания лицея М. М. Сперанский видел в новом учебном заведении не только школу для подготовки образованных чиновников. Он хотел, чтобы лицей воспитал людей, способных претворить в жизнь намеченные планы преобразования Российского государства. Широчайшие знания, умение мыслить и стремление трудиться для блага России - вот качества, которыми должны были отличаться выпускники нового учебного заведения. Не случайно в новой программной речи, обращенной к воспитанникам в день торжественного открытия, адъюнкт-профессор нравственных и политических наук Александр Петрович Куницын говорил об обязанностях гражданина, о любви к Отечеству и долге перед ним. На всю жизнь запомнились мальчикам слова: «Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями».


По уставу в лицей принимались дети дворян в возрасте 10-12 лет. Одновременно в учебном заведении могли воспитываться не более 50 человек. На первый, пушкинский курс, было принято 30 учеников. Обучение длилось шесть лет и приравнивалось к университетскому. Первые три года - так называемый начальный курс - изучались предметы старших классов гимназии. Три последующие года - окончательный курс - содержал основные предметы трех факультетов университета: словесного, нравственно-политического и физико-математического. Обширная программа гармонично соединяла гуманитарные и точные науки, давала энциклопедические знания. Большое место отводилось наукам «нравственным», под которыми, как гласил лицейский устав, «...разумеются все те познания, которые относятся к нравственному положению человека в обществе, и, следовательно, понятия об устройстве гражданских обществ, и о правах и обязанностях, отсюда возникающих».


Традиции образования в лицеи
Одна из главных задач лицейского образования - развить умственные способности, научить воспитанников самостоятельно мыслить. «Основное правило доброй методы или способа учения, - подчеркивалось в лицейском уставе, - состоит в том, чтобы не затемнять ума детей пространными изъяснениями, а возбуждать собственное его действие». Важнейшее место в программе обучения отводилось глубокому изучению российской истории. Развитие патриотических чувств тесно связывалось со знанием родной страны, ее прошлого, настоящего, будущего.


Большое внимание уделялось изучению жизнеописаний великих людей - считалось, что исторические примеры помогут самовоспитанию личности, научат великому служению Отечеству. При составлении учебной программы были учтены возрастные особенности воспитанников. В первый год, когда мальчикам было 10-12 лет, много времени отводилось на изучение языков: российского, французского, латинского и немецкого. Бывали дни, когда учащиеся были обязаны между собой говорить на каком-либо иностранном языке.


Лицей был закрытым воспитательным учебным заведением. Распорядок жизни здесь был строго регламентирован. Вставали воспитанники в шесть часов утра. В течение седьмого часа нужно было одеться, умыться, помолиться и повторить уроки. В семь часов начинались занятия, продолжавшиеся два часа.


В десятом часу лицеисты завтракали и совершали небольшую прогулку, после чего возвращались в класс, где занимались еще два часа. В двенадцать отправлялись на прогулку, по окончании которой повторяли уроки. Во втором часу обедали. После обеда - три часа занятий. В шестом - прогулка и гимнастические упражнения.


Занимались воспитанники в общей сложности семь часов в день. Часы занятий чередовались с отдыхом и прогулками. Прогулки совершались в любую погоду в Царскосельском саду. Отдых воспитанников - это занятия изящными искусствами и гимнастическими упражнениями. Среди физических упражнений в то время особенно популярны были плавание, верховая езда, фехтование, зимой - катание на коньках. Предметы, способствующие эстетическому развитию, - рисование, чистописание, музыка, пение - и сейчас есть в программе средней школы.


В будущих государственных деятелях старались развить чувство собственного достоинства и уважения к личности другого человека. Им внушали, что «все воспитанники равны... а потому никто не может презирать других или гордиться перед прочими чем бы то ни было»; что преподавателям и гувернерам нужно всегда говорить правду, «ибо лгать начальнику - значит не уважать его». Запрещалось кричать на дядек или бранить их. В лицее не было телесных наказаний и казенной муштры. У каждого воспитанника была отдельная комната. В первые годы обучения оценок в лицее не ставили. Вместо этого профессора регулярно составляли характеристики, в которых анализировали природные наклонности ученика, его поведение, прилежание, успехи. Считалось, что подробная характеристика помогала работе с учеником лучше, чем однозначная оценка.


Воспитанники лицея никогда не были праздны. Здесь все было направленно на развитие умственных интересов, поощрялось всякое стремление к знаниям. Так, например, Алексей Илличевский собирал материалы к биографиям великих людей России, а Вильгельм Кюхельбекер составлял словарь, содержащий выписки из произведений близких ему по духу писателей-философов.


Воспитанники много читали. «Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе при беспрестанном трении умов», - вспоминал Модест Корф. Пополнение библиотеки было постоянной заботой совета лицейских профессоров. В письме к Павлу Фуссу, отвечая на вопрос, доходят ли до лицея новые книги, Алексей Илличевский размышляет о пользе чтения: «Достигают ли до нашего уединения вновь выходящие книги? - спрашиваешь ты меня. Можешь ли в этом сомневаться?.. Никогда! Чтение питает душу, образует разум, развивает способности...»


Своих современников - русских писателей и поэтов - лицеисты знали не только по их сочинениям. Интересно свидетельство Илличевского из письма к тому же Фуссу: «...до самого вступления в лицей я не видел ни одного писателя, но в Лицее видел я Дмитриева, Державина, Жуковского, Батюшкова, Василия Пушкина и Хвостова; еще забыл: Нелединского, Кутузова, Дашкова». Профессор российской и латинской словесности Николай Федорович Кошанский считал основой литературного образования умение писать, сочинять и с одобрением относился к стихотворным опытам своих воспитанников. Нередко на уроках он предлагал писать стихи на заданую тему. «Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, - вспоминал позднее Иван Пущин, - когда, окончив лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами».


Одно из любимых занятий лицеистов - собрания, на которых каждый обязан был что-нибудь рассказать - выдуманное или прочитанное. Постепенно запас стихов, рассказов, эпиграмм увеличивался, и их записывали. Создавались рукописные журналы, и росли лицейские поэты, дружески соревнуясь между собой. А с 1814 года их поэтические опыты стали появляться на страницах российских журналов.


Известные ученики лицея
В ту пору учащиеся многих учебных заведений имели свои девизы, но вряд ли у кого из них был девиз более гуманнее и благороднее, чем тот, который избрали лицеисты пушкинского курса, - «Для Общей Пользы». Жить «Для Общей Пользы» учили директора лицея - Василий Федорович Малиновский и Егор Антонович Энгельгардт, лучшие профессора и преподаватели. В течение 32 лет существования Императорского лицея в Царском Селе (с 1811 по 1843 годы) это привилегированное учебное заведение окончили 286 человек. В его стенах в разное время учились: выдающийся писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин, поэт Л. А. Мей, организатор общества социалистов-утопистов М. В. Буташевич-Петрашевский, философ, историк Н. Я. Данилевский, составитель «Словаря русского языка» академик Я. К. Грот. И все же славой своей лицей обязан прежде всего своим первенцам, выпуску, который вошел в отечественную историю именами поэта А. С. Пушкина, поэта, журналиста А. А. Дельвига, активного участника восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, одного из самых мужественных, стойких декабристов И. И. Пущина, поэта, декабриста В. К. Кюхельбекера, мореплавателя контр-адмирала Ф. Ф. Матюшкина, участника турецкой и персидской кампаний генерала В. Д. Вольховского, видного государственного деятеля, министра иностранных дел А. М. Горчакова.



21 июня 1817 года, из стен Императорского Царскосельского лицея, в просторечии теперь именуемого пушкинским, вступили во взрослую жизнь первые 29 выпускников. В 1843-м лицей переехал в Петербург и стал называться Александровским. Учебное заведение, задуманное в качестве кузницы кадров для управленческой элиты, со своей основной задачей справлялось прекрасно. Образование здесь получили люди, принесшие Отечеству немало пользы: от пушкинского однокашника и тезки князя Горчакова, главы МИДа в течение почти всего периода правления Александра II, до графа Владимира Коковцова, занявшего пост премьера сразу после гибели Петра Столыпина.
Лицей внес вклад и в отечественную культуру: конечно, не одним Пушкиным он был славен. Например, с разницей в два года его аттестаты получили мыслитель Николай Данилевский, одним из первых научно объяснивший, почему Россия - не Европа, и сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, старавшийся растолковать тот же тезис, правда, с иных, весьма далеких от науки, позиций. Не стоит забывать и царскосельского выпускника Михаила Петрашевского: их злополучное знакомство с Достоевским будущего классика многому научило. Без каторги, которую подающий надежды литератор получил за участие в «кружке петрашевцев», мы бы знали совсем другого писателя.
Что же касается того самого, первого, славного, выпуска, то его визитная карточка в национальной истории украшена - во-первых, во-вторых и в-третьих - силуэтом всем знакомого профиля. Ведь Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг и Константин Данзас, однокашники Александра Сергеевича - это прежде всего пушкинский круг, и уже только потом талантливые литераторы, блестящие офицеры и важные сановники. Впрочем, не станем умалять и их заслуг: каждым лицей мог бы гордиться по праву.

Прочитаем свидетельство выпускника Александра Пушкина:
«В течение шестилетнего курса обучался в сем заведении и оказал успехи: в законе божьем и священной истории, в логике и нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском гражданском и уголовном праве хорошие;
в латинской словесности, в государственной экономии и финансах весьма хорошие;
в российской и французской словесности, также в фехтовании превосходные.
Сверх того, занимался историей, географией, статистикой, математикой и немецким языком».
Ура! Экзамены позади! Впереди ждала долгожданная Свобода!
Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порога,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Наступили дни прощания. 21 (9) июня состоялась скромная церемония выпуска первых лицеистов в присутствии Александра I. Директор Энгельгардт прочитал коротенький отчет за весь шестилетний курс, Куницын провозгласил утверждение о выпуске. После этого каждого воспитанника представили императору с объяснением чинов и наград. Александр I поблагодарил директора и весь штат педагогов, тепло напутствовал воспитанников.

Потом хор лицеистов исполнил прощальную песню Антона Дельвига, музыку к которой написал Теппер де Фергюсон, преподаватель музыки и хорового пения. Эту песню, ставшую лицейским гимном, будут исполнять в дальнейшем на всех лицейских встречах.
Прощальная песнь
воспитанников
Царскосельского Лицея
Хор
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
1-й голос
О матерь! вняли мы призванью,
Кипит в груди младая кровь!
Длань крепко съединилась с дланью,
Связала их к тебе любовь.
Мы дали клятву: все родимой,
Все без раздела - кровь и труд.
Готовы в бой неколебимо,
Неколебимо - правды в суд.
Хор
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
2-й голос
Тебе, наш царь, благодаренье!
Ты сам нас юных съединил
И в сем святом уединенье
На службу музам посвятил!
Прими ж теперь не тех веселых
Беспечной радости друзей,
Но в сердце чистых, в правде смелых,
Достойных благости твоей.
Хор
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
3-й голос
Благословите положивших
В любви отечеству обет!
И с детской нежностью любивших
Вас, други наших резвых лет!
Мы не забудем наставлений,
Плод ваших опытов и дум,
И мысль об них, как некий гений,
Неопытный поддержит ум.
Хор
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
4-й голос
Друг на друге остановите
Вы взор с прощальною слезой!
Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде - да, неправде - нет.
В несчастье - гордое терпенье,
И в счастье - всем равно привет!
Финал
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
Прощайтесь, братья, руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!
Глаза воспитанников и наставников наполнились слезами. В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца.
Директор Егор Антонович Энгельгардт напутствовал своих воспитанников такими словами:
«Идите вперед, друзья, на новом вашем поприще!.. Храните правду, жертвуйте всем за нее; не смерть страшна, а страшно бесчестие; не богатство, не чины, не ленты честят человека, а доброе имя, храните его, храните чистую совесть, вот честь ваша. Идите, друзья, поминайте нас…»
Тогда же выпускники дали клятву: « …и последний лицеист один будет праздновать день открытия лицея 19 октября».
Одна из самых известных традиций в Лицее – традиция после выпускных экзаменов разбивать лицейский колокол, который в течение шести лет собирал учеников на занятия. Каждый выпускник брал себе на память осколок, чтобы на всю жизнь сохранить частичку любви, тепла, заботы, которыми они были окружены в стенах Лицея, ставшего для многих вторым домом.
Для самого первого выпуска из осколков колокола Энгельгардт распорядился изготовить памятные кольца. Чугунное кольцо в виде переплетенных в дружеском рукопожатии рук стало для Пушкина и его лицейских товарищей бесценной реликвией и священным талисманом. Эти кольца директор надел выпускникам лицея - и они стали «чугунниками».
Для награждения отличившихся лицеистов по эскизам Е.А. Энгельгардта были отлиты золотые и серебряные медали. Изображение на них стало впоследствии гербом Лицея. Два венка, дубовый и лавровый, олицетворяли Силу и Славу, сова символизировала Мудрость, а лира, атрибут Аполлона, указывала на любовь к Поэзии. Над всем этим гордо был начертан лицейский девиз: «Для Общей Пользы».

Большую золотую медаль получил Владимир Вольховский, вторую золотую медаль - Александр Горчаков.
Серебряные медали получили Вильгельм Кюхельбекер, Дмитрий Маслов, Николай Корсаков, Семен Есаков и Сергей Ломоносов. С правом на серебряную медаль окончили курс Модест Корф и Петр Саврасов.
9 выпускников лицея получили звание титулярного советника - чиновника IX класса, 7 выпускников зачислили прапорщиками в гвардию. Прежде чем стать офицерами, им предстоит еще пройти пятимесячный фрунтовой курс.
Гражданский чин титулярного советника соответствует военному рангу гвардейского прапорщика. В первую очередь IX класс получили золотые и серебряные медалисты и имеющие право на серебряную медаль.
Ученики послабее получили чин коллежского секретаря – чиновника X класса, или первый офицерский чин прапорщика, но не в гвардию, а в армию. Совсем не плохое начало карьеры для нигде не служивших юношей, потому что низший класс в «табели о рангах» - XIV.

Вот строки из письма Федора Матюшкина к другу Созоновичу: «Вчера, любезный Сережа, был у нас выпуск: Государь на оном присутствовал, посторонних никого не было: все сделалось так нечаянно, вдруг; я выпущен с чином коллежского секретаря; ты конечно поздравишь меня с счастливым началом службы. Еще ничего не сделавши – быть X класса. Конечно это много, но мы судим по сравнению: некоторые выпущены титулярными советниками, но об этом ни слова”.
Александр Горчаков, Сергей Ломоносов, Николай Корсаков, Вильгельм Кюхельбекер, Павел Юдин, Павел Гревенец и Александр Пушкин пойдут служить по дипломатической части в Коллегию иностранных дел.
В Департаменте народного просвещения ждут Федора Стевена, Сергея Комовского и Аркадия Мартынова.
В Министерство Финансов определились Алексей Илличевский, Антон Дельвиг и Константин Костенецкий.
Модест Корф и Михаил Яковлев найдут применение в Министерстве юстиции, а Дмитрий Маслов будет работать в государственной канцелярии.
Гвардейскими прапорщиками станут Владимир Вольховский, Семен Есаков, Петр Саврасов, Иван Пущин, Александр, Корнилов, Александр Бакунин и Иван Малиновский; армейскими прапорщиками – Константин Данзас, Николай Ржевский, Павел Мясоедов, Александр Тырков и Сильверий Броглио; на флоте будет служить Федор Матюшкин.
Царь Александр Павлович распорядился выделить из казны по 10 тысяч рублей на экипировку тех лицеистов, которые победнее, и выплачивать каждому стипендию не менее 700 рублей ассигнациями, пока тот не станет работать.
31 октября 1811 года в Царском Селе открылся самый известный в истории России лицей. По легенде, умирающий Пушкин сожалел, что рядом с ним нет его лицейских преподавателей. Читаем 7 легенд о порядках Лицея и приключениях лицеистов.
Царскосельский лицей был закрытым вузом со строгим распорядком дня, и во время учебного года выезжать из него было запрещено. Все воспитанники находились на полном пансионе.
Но лицеисты, конечно, не раз пробовали удрать в "самоволку", оставив дома своих воспитателей. Так, однажды Пушкин и Кюхельбекер решили уехать в Петербург, но никак не могли отделаться от настойчивого гувернера по фамилии Трико, который следовал за ними. Подъехав к заставе, Пушкин должен был назваться, и он доложил: «Александр Однако!» Заставный записал фамилию и пропустил его. За ним следовал Кюхельбекер. На вопрос, как его фамилия, молодой человек сообщил: «Григорий Двако!» Заставный засомневался, но записал фамилию и пропустил юношу. Но когда несчастный гувернер на тот же вопрос чистосердечно ответил: «Трико!», заставный вышел из себя и закричал: «Один за другим– Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Шалишь, брат, ступай в караулку!» Неудачливый Трико просидел целые сутки под арестом, а Пушкин с другом наслаждались Петербургом одни.
Клички и розыгрыши
Несмотря на то, что в Лицее училась "золотая молодежь", дети очень уважаемых людей, они не всегда называли друг друга, как это было принято у дворян, по фамилии. Целая коллекция подпольных кличек, легких для расшифровки и не очень, была у лицеистов. Пушкина, например, называли "французом" за его любовь к французской поэзии и языку (как известно, Пушкин до самой смерти так ни разу и не был за границей). А еще - "Обезьяна с тигром", "Сверчок"... Иван Ивановича Пущина прозвали “Жано”, а у Вильгельма Кюхельбекера было несколько кличек, причем не самых приятных – “Кюхля”, “Глиста”... К слову, на Кюхельбекера сохранилось больше всего эпиграмм, и некоторые из них печатались даже в "Лицейском мудреце". Однажды Пушкин написал там: "Писатель! За свои грехи/ Ты с виду всех трезвее:/ Вильгельм, прочти свои стихи, /Чтоб мне заснуть скорее". Обиженный Кюхельбекер побежал топиться в пруду. Его успели спасти. Вскоре в "Лицейском мудреце" нарисовали карикатуру: Кюхельбекер топится, а его длинный нос торчит из пруда.
Клюквенная дуэль
Все из-за тех же неудачных стихов дело однажды дошло до дуэли. Кюхельбекер часто навещал Жуковского, лицейского преподавателя и поэта, донимая его своими стихами. Однажды Жуковский был зван на какой-то товарищеский ужин и не пришел. Потом его спросили, почему он не был, поэт ответил: "Я еще накануне расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома..." Пушкин, услышав это, написал эпиграмму:
За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно -
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно...
Кюхельбекер за такое оскорбление, разумеется, потребовал дуэли! Дуэль состоялась. Оба выстрелили. Но пистолеты были заряжены... клюквой.
Пирующий Галич
Друг всех студентов, неутомимый собеседник, преподаватель психологии Галич - одна из ярких учительских фигур Лицея. Его лекции проходили в форме бесед, горячих споров, в достаточно непринужденной обстановке. Изучать труды античных классиков для него было "трепать лавры стариков". Корф называл его "предобрым и презабавным чудаком", а лицеисты просто обожали. Галич был педагогом, встречавшимся со учениками не только в аудиториях, он участвовал в их пирушках и застольях, провоцировал философские диспуты и соревновался с ними в ораторском искусстве. Этого педагога не раз поминает Пушкин в своих стихах, чаще всего шуточных:
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Или: О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливый,
Под отдаленный неги кров.
Лицейская выручка
Несмотря на то, что сам Пушкин к моменту выпуска в 1817 году был по успеваемости двадцать шестым из двадцати девяти учеников, "в российской и французской словесности, также в фехтовании" он показал превосходные успехи. Среди юных лицейских поэтов он был одним из лучших, и существует множество легенд о том, как остроумно он мог подчеркнуть это. Например, однажды лицеист Неведомский, очень слабый в поэзии, должен был написать стихи о восходе солнца для преподавателя риторики Н.Ф. Кошанского. Бедный ученик смог выдавить из себя лишь первую строчку семистопного стихотворения: "От запада встает великолепный царь природы" - и, отчаявшись, обратился к Пушкину за помощью. Вот как юный Пушкин продолжил этот стих и "помог" своему сокурснику:
"От запада встает великолепный царь природы.
Не знают - спать иль нет? - смущенные народы.
Неведомский - поэт, неведомый никем,
Печатает стихи неведомо зачем".
Запрет на очки и почетное место
Очки в начале девятнадцатого века вошли в такую моду, что их носили даже те, у кого было стопроцентное зрение. У остальных же взгляд через увеличительные стекла вызывал страх, т.к. считали, что через них можно рассматривать изъяны, не видные обычным глазом. Московский главнокомандующий граф Гудович, завидев человека в очках, посылал к нему слугу со словами, что здесь нечего разглядывать и очки можно снять. Взгляд сквозь очки на даму или на старшего по чину считался дерзостью, и потому лицеистам уж тем более было не положено носить их. Страдал от этого Дельвиг, у которого действительно было плохое зрение и который, выйдя из Лицея и приобретя очки, по легенде, воскликнул, что не все женщины, оказывается, писаные красавицы!
В классах и в столовой лицеистов рассаживали по поведению и успехам. «Блажен муж, иже/ Сидит к кафедре ближе» – так говорилось об этом в лицейских песнях.
Державное благословение
В этой легенде нет шутки, она, наоборот, исполнена серьезного величия и торжества духа. Но несколько минут Пушкинского публичного экзамена стали притчей во языцех и неустанно рассказываются. Речь идет об экзамене, на котором Пушкин читал свои стихи "Воспоминание в Царском Селе", а пожилой Державин, присутствовавший в комиссии, подвинувшись к нему и склонив свое ухо, внимательно слушал. Трогательно описывает это друг поэта И.И. Пущин, или, по-лицейски, Жано:
“…Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои “Воспоминания в Царском Селе”. В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным одушевлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов, в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать поэта и осенил его курчавую голову, – под каким – то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, – его уже не было, он убежал”.